Хаврин С.В.
Одна из наиболее интересных категорий археологических находок – антропо- и зооморфная каменная скульптура, широко представлена среди случайных находок на территории азиатской степи и лесостепи от Приуралья до Тувы. Наиболее многочисленной группой каменной скульптуры являются прямоугольные, округлые или овальные плитки с изображением головы барана на торцевой стороне (рис. 1.3-9). Поверхность таких плиток обычно зашлифована, на некоторых экземплярах имеется плавное округлое углубление, на большинстве находок присутствуют следы красной охры (?) различных оттенков, а в трех случаях отмечены следы голубой краски. Одним из первых исследователей этой категории каменной скульптуры был М.И. Ростовцев, который датировал плитки с изображением головы барана сарматским временем (Ростовцев 1918).
Классификация плиток с изображением головы барана впервые была предложена в конце 1940-х годов П.А. Дмитриевым, а затем более детально доработана Н.П. Матвеевой (Дмитриев 1948, Матвеева 1986). В результате находки разделились на три неравные группы по степени стилизации – реалистические, стилизованные, схематические. Разделение несколько условно (что неизбежно при любой классификации), поскольку и на реалистических плитках имеются элементы стилизации, и среди стилизованных и схематических плиток имеются элементы реализма. Естественно, что появление более детализированных и реалистических изображений предшествовало схематическим и стилизованным – объект изображения на некоторых условных экземплярах невозможно было бы идентифицировать без знания наиболее реалистичных (Ченченкова 1989, 1996).
В настоящее время известно уже около 40 плиток с изображением головы барана1 и практически все они – случайные находки. Часть из них утратила археологический контекст в результате распашки территории занятой поселением или курганами, что затрудняет их датировку и культурную атрибуцию. В одном случае две плитки с условным изображением (рис. 1.5,6) найдены в небольшой ямке в поле кургана сарматского времени у дер. Рафайлово (раскопки Н.П. Матвеевой 1985 года), что явилось веским аргументом в пользу отнесения рассматриваемой категории изделий к кругу сарматских древностей (Матвеева 1986). Число сторонников датировки плиток с изображением барана скифским временем велико (Дмитриев 1948, Сальников 1952, Чернецов 1953, Смирнов 1964, Матвеева 1972, etc.), однако есть и противники такой атрибуции – В.И. Мошинская, К. Йеттмар и А.М. Тальгрен относили эту категорию находок к эпохе бронзы, правда, давая несколько различную культурно-хронологическую привязку. А.М. Тальгрен связывал их с андроновской и сейминско-турбинской культурами (Tallgren 1938), К. Йеттмар – с памятниками типа Сеймы и Турбино (Jettmar 1965), а В.И. Мошинская относила их к памятникам, датировавшимся в широких пределах II тыс. до н.э. (Мошинская 1976, 1976а).
Картографирование находок рассматриваемого типа (рис. 2) показало, что большинство из них (30 плиток, представляющих все три типа) происходит из относительно небольшого по площади района Южного Зауралья по долинам рек Исеть, Миас и Тобол, лишь небольшое количество (5 находок) найдено в Северном Казахстане, по одной в Марий-Эл, в устье р. Иртыш и в Иранском Азербайджане (Ченченкова 1989). Среди плиток нет образцов, соответствующих стадии формирования художественного канона, известные экземпляры демонстрируют образ уже в разработанном виде или в упрощенном, то есть представляют лишь период его расцвета и постепенной утраты образа. Поэтому правомерно предположить, что тип каменных плиток с изображением головы барана был занесен на Южный Урал в готовом виде извне (Ченченкова 1996:167-168). К. Йеттмар считает, что плитки могли быть заимствованы с юга вместе с культом одомашненного там барана. Южное происхождение, по его мнению, подтверждает находка такой плитки в Иранском Азербайджане (Jettmar 1964), но до сих пор она остается единственной для всего ближневосточного региона.
Каменные алтари-жертвенники не редкая находка для памятников скифо-сарматского времени. Ножки некоторых из них выполнены в виде зооморфных головок, но не известно алтариков, украшенных головками животных на боковой грани. Поэтому, абсолютно прав В.Ю. Зуев, считающий, что связь между алтариками скифского времени и зауральскими каменными плитками опирается исключительно на историографическую традицию (Зуев 1991:47).
Находка каменных изделий в ямке под полой Рафайловского кургана не может служить четким доказательством их синхронизации с погребением сарматского времени. Правомерность же значительно более ранней датировки каменных плиток-терочников с изображением барана подтвердили недавние раскопки кургана в Саратовской области. В погребении 1 кургана 4 второго Большедмитриевского могильника непосредственно в могиле «у северной стенки камеры обнаружена хорошо заполированная ступа-жертвенник-алтарь ... подпрямоугольной формы ... с углублением на одной плоской стороне и с 3 выступами на торце», изделие выполнено «в виде стилизованной черепахи, аналогии которому неизвестны» (рис. 1.1,2). Важно отметить, что среди прочих находок в этой могиле имелся каменный пест, а на дне отмечено большое количество охры. Инвентарь (бронзовые топорик, нож) и погребальный обряд датируют захоронение раннекатакомбным временем – рубежом III/II - первой половиной II тыс. до н.э. (Ляхов, Матюхин 1992:122-123, рис.11.2, Малов, Филипченко 1996:59-60, рис. 4.18-21).
Большедмитровская плитка в соответствии с классификацией П.А. Дмитриева и В.П. Матвеевой относится к группе схематических, а значит плитки реалистического, то есть более раннего типа, должны датироваться по крайней мере этим же временем. О возможности сосуществования реалистических и схематических плиток свидетельствует их совместная находка в урочище Кладовое Челябинской области (рис. 1.3,4). Дополнительным аргументом в пользу предлагаемой датировки каменных плиток с изображением головы барана является стилистическая близость с другими категориями каменной скульптуры – жезлами, имеющими зооморфные навершия и фигурками сидящего человека. Их объединяют также общие приемы технической обработки камня (Ченченкова 1996).
Назначение рассматриваемых каменных плиток как терочников для краски определяют наличие на верхней грани заполированной выемки и следов краски. О важности подобного предмета для ритуальной практики ямно-катакомбных племен свидетельствуют частое использование ими охры в погребальном обряде и находки уплощенных каменных терочников для охры более простых типов. Случаи употребления голубой краски в погребальном ритуале, хотя реже, но также были неоднократно отмечены (Шилов 1995:102).
Функциональными прототипами рассматриваемых плиток, по-видимому, являются два каменных сосуда-жертвенника (рис. 1.8), на боковой стороне которых выполнено изображение головы барана – случайные находки из Оренбургской области (Ростовцев 1918:69; Смирнов 1964:рис. 75.4). Более отдаленные аналогии уходят еще далее на запад – овальные и подпрямоугольные трипольские зооморфные керамические блюда (см. Гусев 1998).
Культурную принадлежность зауральских плиток определить сложно, поскольку в конце III – первой половине II тыс. до н.э. в Южном Зауралье, по мнению исследователей этого региона, сосуществует несколько археологических культур (культурных традиций) – одиновско-крохалевская (вишневская) и боборыкинская (Потемкина 1985); или – боборыкинская, липчинская, шапкульская, аятская, одинцовская (Косарев 1981; Молодин 1985); или – липчинская, шапкульская и андреевская (Матвеев и др., 1995). В последнее время все большее число сторонников обретает точка зрения В.Т. Ковалевой и С.Ю. Зыряновой, согласно которой памятники боборыкинской культуры датируются значительно более ранним временем (Ковалева 1989:48-59, Ковалева, Зырянова 1998), удревняются и другие перечисленные культуры. А в первой трети II тыс. на исследуемой территории была распространена ташковская культура, выделенная недавно В.Т. Ковалевой (Ковалева 1988). Формирование ташковской культуры связано с ассимиляцией населения местных энеолитических культур пришлым степным ираноязычным населением (Ковалева 1997: 25). Имеются данные, свидетельствующие о наличии контактов населения Зауралья с ямными, ямно-катакомбными и катакомбными племенами (Григорьев 1996:84, Мосин 1996:56-60).
Как бы то ни было, благодаря новой находке, большинство каменных плиток со скульптурным изображением головы барана мы можем теперь с уверенностью отнести к кругу раннебронзовых культур Южного Зауралья конца III – первой половины II тыс. до н.э.
1 Подробный каталог плиток в 1996 г. подготовлен совместно с О.П. Ченченковой (Екатеринбург) к публикации и опубликован в конце 2000 г. в № 6 Eurasia Antiqua, (Chenchenkova, Сhavrin). В него включено 35 плиток и две каменные чаши. С тех пор количество известных нам плиток увеличилось на несколько экземпляров, происходящих с территории Зауралья и Северного Казахстана.
Литература:
Иллюстрации:
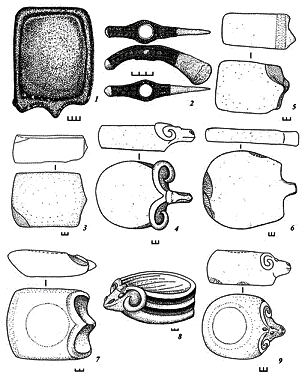
Рис. 1. Каменная плитка и бронзовый топор из Большедмитровского кургана (1,2), каменные плитки и сосуд с изображением головы барана из урочища Кладовое (3,4), Рафайловского кургана (5,6), дер. Ронда Йошкар-Олинского района (7), дер. Камардиновка Оренбургской обл. (8), дер. Березово Тюменской обл. (9)

Рис. 2. Карта распространения каменных плиток с изображением головы барана (![]() ), каменных сосудов с изображением барана (
), каменных сосудов с изображением барана (![]() ) и место расположения Большедмитровского кургана (
) и место расположения Большедмитровского кургана (![]() ).
).